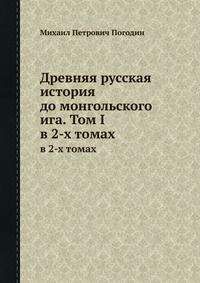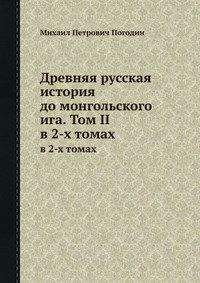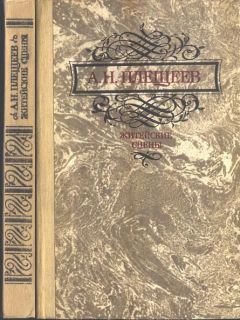688
Речь идет о том, что молитвы обо всех членах Церкви, включая прославленных святых, после освящения Св. Даров, присущи абсолютно всем литургическим традициям, и только позднейший римский обряд заменяет эти молитвы о святых молитвами, обращенными к этим святым. См.: Baumstark A. Comparative Liturgy. L., 1958.
Речь идет о литургии на латинском языке, употреблявшейся в Испании. Она не принадлежит к самым древним из числа известных сегодня, но она особенно долго сохранялась в употреблении (исчезла окончательно в связи с унификацией латинского богослужения в послетри- дентскую эпоху, в XVI в.), и потому была особенно хорошо известна литургистам. Содержала много архаичных для Запада черт, общих с восточным богослужением.
Абзац отмечен цензором в 1868 г.
Не зная православного учения о личном обожении, Хомяков, однако, со всей строгостью исповедует это учение применительно ко всей Церкви. «Всецело» — «tout entier». Учение о том, что Бог в каждого из святых «проникает» «всецело» (UXos) было изложено, например, в одобренном собором Константинопольским 1341 г. «Святогорском Томосе», подписанном настоятелями всех афонских монастырей и составленным Св. Григорием Паламой (1340), который, в свою очередь, использовал формулировки Св. Максима Исповедника; текст: PG 150, 1229 D.
Об отношении Хомякова к латинско–протестантскому спору об оправдании см. Бр. 1. Собственную позицию Хомякова см. ниже.
Иак. 2, 14–26.
Похоже, что здесь перефразировано изречение Св. Киприана Карфагенского: «Кому Церковь не мать, тому Бог — не отец» (Св. Киприан. О единстве Церкви, 6).
Примечание переводчика: «Хотя некоторые православные богословы целиком перенесли его с Запада в нашу школу».
Вера определена через евангельскую аллюзию (слова Христа: «Аз еемь путь и истина и живот» — Ин. 14, 6) так же, как Христос, и тут же разъяснено это соответствие: Иисус — «L'dtre moral par excellence», вера — «un principe essentiellement moral» (буквально, «начало, нравственное по сути»); сродное ищет соединиться со сродным. Различие в том, что в вере «нравственное» составляет лишь ее суть, тогда как в Иисусе оно имеет «преимущественно» (par excellence) «проявление» (manifestation; см. немно¬го выше христологический пассаж). «Нравственное» в системе Хомякова оказывается тем единственным параметром, по которому различие между Богом и разумной тварью не качественное, а только количественное. Историкам еретических учений привычно сталкиваться с системами, где роль такого параметра присваивается «уму» (в смысле греч. vdvs, что бо¬лее соответствует современному русскому «дух»), или «умной природе», — это системы, связанные с античным мировоззрением, особенно с платониз¬мом, из которых наиболее живучей показала себя оригеновская; но этого‑то онтологизма, хотя бы и еретического, у Хомякова нет. Вера для него — понятие гносеологическое, понятие той же категории, что и «знание». На таком фундаменте не могла бы держаться никакая средневековая ересь. Но Хомяков жил после немецких философов и французских моралистов, когда «нравственное (моральное) единство» звучало примерно так же, как для средневекового человека «единство по природе». Отсюда такое полное формальное сходство христологии Хомякова с оригеновской: Христос несет в полном и неповрежденном виде некое начало, которое в других разумных созданиях нуждается в восстановлении и восполнении (Ориген называл это начало «природой ума», Хомяков — «нравственным существом»). В обеих системах ни различие тварного и нетварного, ни даже грех не полагают пропасти между Богом и Его созданием; творение — органическое продол¬жение Творца, строго говоря, Его постепенная деградация (ведь не только у платоников «эманации» Божества суть все более низкие степени божест¬венности, но и у Хомякова все тварные существа суть все более низкие степени «нравственного»). В этом учении Хомяков остается верен своим мыслям 1840–х гг.: «Завет иудейского, теперь всемирного Учителя —немно¬госложен: он заключается в нескольких положениях, не связанных ни с какою местностью, ни с какими внешними условиями. Человек так подобен Богу в смысле духовном, что Бог мог быть человеком. Таким образом, высший дух имеет в себе внутреннее оправдание своего величия, и человек получает внутреннюю возможность бесконечного совершенства. Человече¬ство освобождается от рабства мировых случайностей и от жизненной тягости собственною силою олицетворенного совершенства человеческо¬го, и человек вступает в недра божества посредством добровольного соединения любви с человеком духовно совершенным, т. е. посредством предания своей частной воли в волю человскобожественную. В этом все его освобождение, вся его высота, вся награда». Процесс спасения оказывается органической закономерностью: «Христианство<… > разрешило все на¬дежды человечества единым разумным разрешением, отвлекая их от всего случайного и не необходимого. Таков смысл учения и самой жизни Иисуса: они вполне независимы от случайностей исторических и от личного произ¬вола» («Семирамида» < «Место, принадлежащее христианству в историче¬ском развитии мира»> // ЯСС, VI, 410–41 /; подчеркнуто нами. — В. Л.). Процесс спасения оказывается органической закономерностью. Наиболее известным следствием такого воззрения становится исключение из божест¬венной жизни материального мира в самой его материальности и, в частности, оттеснение в область более или менее случайного обстоятельства земного служения Христа (последнее отмечается всеми современными исследователями хомяковской христологии; ср. также прим. *** к С. 168). Другая трудность связана с понятием греха и различием в отношении «разумных созданий» к греху: если все они суть «деградации», то грех приходится приписыпать, в разной степени, им всем; нельзя более допустить безгрешность ангелов. Ориген это делает, считая, что ангелы — наименьшая степень деградации «умной природы» (только Иисус непричастен деграда¬ции совершенно): они в наименьшей степени отпали от того состояния, в котором были сотворены. Хомяков поступает иначе: очень широко определяя грех как какую бы то ни было ограниченность, он делает Бога творцом «грешных» созданий и Христа — «грешником» (подробно см. в Бр. III). Здесь не будет сходства с дуалистическими ересями, допускавшими второе творческое начало, творящее грех, — но нечто противоположное: размыва¬ние границы между нормою и грехом.
Ср. Пс. 50, 19: «Жертва Богу дух сокрушен». Категоричность этого утверждения близко подходит к православной аскетике: «Желающий сде¬лать что‑либо и не могущий есть пред Сердцеведцем Богом как бы сделавший. Это должно разуметь как в отношении к добру, так и в отношении ко злу» (Св. Марк Подвижник. К тем, которые думают оправдаться делами, 16 // Добротолюбие /, 539).
Лк. 23, 42. Отмечено цензором в 1868 г.
Т. е. в том же значении, которое имеет греческое «логос».
Иак. 2, 26.
Крещения и Евхаристии.
Латинское название Миропомазания («утверждение» — лат.); латиняне отделили его от Крещения и миропомазывают детей не раньше достижения ими сознательного возраста; до Миропомазания детей не допу¬скают к причастию.
В переводе Гилярова это определение (как и определение Евхари¬стии, см. ниже) могло быть искажено по цензурным соображениям. Оно звучало: «Человека, соглашающегося спастись добровольною жертвою Спа¬сителя, Церковь приемлет и соединяет со Христом: вот смысл Крещения». — «Смысл Крещения» — не сама Церковь, а какое‑то действие, что противоречило сказанным чуть выше словам Хомякова о первом из «двух разрядов» таинств.
В гиляровском переводе (возможно, по цензурным соображе¬ниям) определение начиналось другими словами: «Всех своих членов Церковь приобщает к своему Спасителю телесным с Ним объединением — вот смысл Евхаристии…»; отождествление Церкви со «смыслом Евхари¬стии» было исключено.
Евхаристия была установлена Спасителем как действительное осу¬ществление того, что пророчески предвозвещалось в пасхальной трапезе по закону Моисееву (Исх. 12, 3–11). Православное почитание святых икон (или «символов» — по–гречески это синонимы) жестко связано с верой в таинство Евхаристии: отрицание икон всегда низводило Евхаристию до уровня иконы. — В случае иконоборчества VIII‑IX вв. на Евхаристию переносилось православное понимание иконы (символа) (см.: Gero S. The Eucharistic Doctrine of the Byzantine Iconoclasts and Its Sources // Byzantinische Zeitschrift. Bd. 68, 1975, S. 4–22), в случае протестантского иконоборчества — латин¬ское (отличие латинского догмата иконопочитания от православного в том, что латиняне, признавая соответствие «образа» (иконы) Первообразу, отри¬цают, что это соответствие достигается реальным присутствием Бога непос¬редственно в иконе нетварными энергиями Божиими; о латинском неприя¬тии этого учения Св. Иоанна Дамаскина см.: С h г. von Schonborn, op. L'Icone du Christ. Fondements thdologiques. Friburg, 1976 (Paradosis, 24). Связь Евхаристии и почитаемого церковного символа безошибочно чувство¬валась Хомяковым, что еще более видно из его замечаний о иконе: на иконе — видение всей Церкви, а не одного художника, как было бы на картине (см. его «По поводу Гумбольдта» (конец 1848 г.) // Изд. 1988, 212, и в особенности, автокомментарий в письме к А. Н. Попову от начала 1849 г.: «Не знаю, совершенно ли ясно я выразил свою мысль об иконе. Вот вкратце се объяснение. Вы, я и третий, мы имеем какое‑нибудь понятие или представление, положим, о Павле апостоле. Выразим это, и выйдет рели¬гиозная картина; но вся Церковь, т. е. все общество православных, в своем историческом существовании, имеет еще свое общее понятие или представ¬ление об апостоле Павле, может быть даже, еще тайное и никем не выраженное на холсте. Выразите это: будет икона. Согласны ли вы со мной? Это новое определение иконы, которое, впрочем, не разногласит с общепри¬нятым, но еще объясняет его» (ПСС, VIII, 195). Икона так же «соборна», как «соборна» Евхаристия.